| WWW.ANARH.RU |
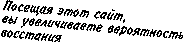
|
| WWW.ANARH.RU |
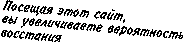
|
|
Трудами переводчиков и философов в России постепенно начинает складываться местная версия истории европейской послевоенной мысли, в которой наравне с Делезом и Фуко ярким светом сияют такие дешевые журналистские авторитеты, как Деррида и Бодрийяр. Недоумение же вызывают имена, давно заслужившие на Западе первостепенное место - Бадиу, Саид, Баба, Хомский, Иглтон и многие прочие. Необходимо поставить вопрос: почему это произошло? Какие условия заставили простодушную русскую публику запомнить и полюбить имена, которые певец Псой-Короленко перечисляет в своих "Постмодернистских частушках" ("все Лаканы и Гваттари все за хрен меня хватали"), а не какие-либо другие? Вероятно, это было следствием конкретной политической ситуации начала
90-х годов, в которой провинциальная политика "постмодернизма" требовала ретроспективного создания своей интеллектуальной традиции, и Деррида с Бодрийяром подошли для Подороги и Курицына больше, чем кто-либо другой, - что свидетельствует только о скромности запросов этих персонажей, но нисколько не соответствует их претензиям на то, чтобы представить общую картину философского развития. Пьер Бурдье, важнейший для понимания современности французский социолог, остался далеко за рамками их непристального внимания. Его авторитет именно сейчас выходит на первое место во всей объединяющейся Европе. Его актуальные публикации мгновенно прочитываются на всех ее уголках; недавно именно он открыл интенсивнейшую дискуссию в немецкой интеллектуальной прессе своей статьей о введении единой евровалюты; во Франции его, против собственного желания, канонизируют в качестве политического деятеля, чья личная история никак не дискредитирована участием в политических играх; на него ссылается любой человек, пишущий текст об иллюзиях парламентской демократии, мифологиях "общественного мнения", системе образования и социальном неравенстве, не говоря уж о теоретических вопросах социологии, для исследования которых он уже сделал не менее, чем Дюркгейм. Тяжелый "толстовский" слог Бурдье - образец для подражания и новая стилистическая норма. Публикация именно его текста по социологии искусства должна предложить русскому контексту теоретические основания того, как отвечать на демагогические банальности "постмодернистской" идеологии. Текст "Историческое происхождение чистой эстетики" может служить эпиграфом к разговору о демократическом искусстве "трэша", поскольку очерчивает и разоблачает ту зону, которая не допускает в себя этот "трэш", - зону, мифологизирующую свои представления о "прекрасном". Как пишет Бурдье в другом месте, "отрицание низкого, грубого, вульгарного, продажного, рабского, - словом, естественного, - удовольствия, конституирующее сакральную зону культуры, подразумевает утверждение превосходства тех, кто может довольствоваться сублимированными, утонченными, неинтересными, неподкупными радостями, навсегда закрытыми для профанов. Вот почему произведение искусства и культурное потребление предназначены, сознательно и умышленно или нет, осуществлять социальную функцию легитимизации социальных различий".
Пьер Бурдье. Историческое происхождение чистой эстетики Начнем с парадокса. Некоторым философам (я имею ввиду Артура Данто) пришло в голову задуматься, что же служит основанием для различения произведений искусства и простых, обыкновенных вещей, и с несравненным социологическим мужеством (которое они никогда не подозревали в каком-либо отношении к социологии) предположить, что принцип онтологического различения может быть обнаружен в институции. Произведение искусства, говорят они, есть артефакт, чье основание может быть найдено только в художественном мире, что значит, в социальном универсуме, и которому придается, кроме того, еще и статус кандидата для эстетической оценки. Что же им еще не пришло в голову (хотя кто-нибудь из наших постмодернистов рано или поздно и до этого додумается), так это - для философа, право же, достойного сего громкого имени, - поднять вопрос, что заставляет нас отличать философский дискурс от любого обыкновенного другого. Этот вопрос поднимается с особенной настойчивостью, когда, как в данном случае, философ, именно так определенный и названный конкретным философским миром, дает самому себе почву дискурса, право на который он будет отрицать за любым социологом, не являющимся частью философской институции2.Крайнее неравенство, которое философия, таким образом, устанавливает в своих отношениях с социальными науками, приносит ей, среди прочих выгод, неотразимое средство скрыть то, что она берет от них и присваивает. На самом деле, мне кажется, что философия, окрещенная пост-модернистской, попросту присваивает в форме отрицания (то, что Фрейд называл Verneinung) не только определенные достижения социальных наук, но и историцистскую философию, которая, эксплицитно или имплицитно, содержится в практике этих наук. Эта замаскированная аппроприация, легитимизированная отрицанием заимствования, является одной из наиболее мощных стратегий, до сих применявшихся философией против социальных наук и той угрозы в виде релятивизации, которую эти науки для нее представляют. Но нельзя поймать сразу двух зайцев, и социология художественной институции, которую "деконструктор" может осуществить лишь с помощью Verneinung, никогда не приходит к своему логическому разрешению: ее подразумеваемая критика институции остается сырой, хотя достаточной для того, чтобы вызвать к жизни возбуждающие симптомы псевдо-революции. Более того, амбициозно претендуя на радикальный разрыв с онтологическими и историческими построениями, критика такого рода сразу же обманывает надежду на поиск оснований эстетики и произведения искусства там, где они действительно находятся, а именно - в истории художественных институций.
Aнализ сущности и иллюзия абсолюта Опыт произведения искусства, уже содержащего смысл и ценность, является результатом соответствия между взаимосвязанными сторонами одной исторической институции: культурным габитусом и художественным полем. Если произведение искусства существует как таковое (т.е. как символический объект, уже содержащий смысл и ценность), только когда оно воспринимается наблюдателями, владеющими предусмотренными диспозициями и художественной компетенцией, то можно сказать, что взгляд эстета конституирует произведение искусства в качестве произведения искусства. Но следует также помнить, что и сами по себе эстеты являются продуктами долгого воспитания произведениями искусства. Этот цикл, основывающийся на из вере и сакральности, разделяется каждой институцией, способной функционировать лишь тогда, когда она учреждается как внутри объективности социальной игры, так и внутри диспозиций, вызывающих интерес и желание участвовать в игре. На музеях следовало бы написать: вход только для любителей. Но в этом нет необходимости, все ясно и без слов. Игра создает иллюзию, поддерживая свое существование с помощью инвестиций, вносимых в игру информированными игроками. Игрок, понимающий значение игры и созданный для игры потому, что он ею самой создан, играет в игру и тем удостоверяет собственное существование. Художественное поле самим своим функционированием создает эстетические диспозиции, без которых оно не могло бы функционировать. Специфическим образом, игра бесконечно воссоздает интерес к себе и веру в стоимость своих ставок через соревнование агентов, инвестирующих в игру интересы. С целью проиллюстрировать операцию этого коллективного усилия и показать смысл бесчисленных актов делегирования символической власти и произвольных или вынужденных опознаний, порождающих этот кредит доверия (предъявляемый создателями фетишей), будет достаточно указать на отношения между различными авангардными критиками, напрягающими все свои критические силы, чтобы доказать ценность работ, чья ценность любителями искусства и так не оспаривается, или даже на самые продвинутые споры критиков. Короче говоря, вопрос смысле и ценности произведения искусства, как и вопрос о специфичности эстетического суждения, вкупе со всеми проклятыми вопросами философской эстетики, может быть разрешен только внутри социальной истории поля, вместе с социологией условий учреждения специфических эстетических диспозиций (или взглядов), в которых поле нуждается в любом из своих состояний.
|