| WWW.ANARH.RU |
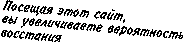
|
| WWW.ANARH.RU |
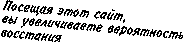
|
|
Алексей Цветков (выступление в Институте Философии в рамках семинара "Евразийский Клуб") ПОЛЕЗНАЯ ТАВТОЛОГИЯ АНАРХИЗМА
К чему нас призывает Лукач? Заинтересовавшись этим автором, мне пришлось составлять представление о нем вообще, и о его книге "История и классовое сознание", в частности, по отдельным, кое-где опубликованным фрагментам, отрывкам, комментариям, чаще всего неблагожелательным, наконец, с вариантом довольно свободного перевода "Истории и классового сознания" меня познакомили друзья, русско-французские левые. В процессе этих изысканий я с радостью обнаружил, что для автора "Истории и классового сознания", не существует реальности, а значит, не существует пока и истории реальности, но зато существует это самое классовое сознание, как непрерывное откладывание главного шанса, как упрямо повторяемый отказ от доступа. Все то, что по нашему мнению "было", все то, что "есть" -- всего лишь недобросовестное искажение, нереализованная возможность реальности, пейзаж нашей небескорыстной и зависимой рефлексии. Пролетариат по Лукачу – тот особый секретный орган в теле вышеописанной иллюзии, благодаря которому и призвана родиться реальность. Пролетариат – та часть возможности, то парадоксальное место, через которое будет наконец реализована, снята сама возможность. Т.е. буквально пролетариат есть объект, призванный стать субъектом, он приходит под своим красным знаменем, чтобы так возник мир, ибо мир для Лукача может быть только при условии, если сам он познает и трансформирует себя в соответствии с самостоятельно открытыми и утвержденными собственными законами. Орудие такого познания, трансформации, открытия и утверждения -- человек, а точнее – пролетарий, а еще точнее – член революционной пролетарской партии. Сам же революционный акт возникновения реальности напоминает хайдеггеровское "entwerden" т.е. "разрешение становления". Возникшая реальность должна быть абсолютна, лишена искажения и занята сама собой с целью всегда становиться чем-то новым. Повторявшийся прежде цикл деформаций упраздняется вместе со сменой периодов "деградации и возрождения" (т.е. сменой периодов осознаваемой и неосознаваемой нами рефлексии). Именно в этом, согласно Лукачу, и состоит историческая задача пролетарской революции. Пролетариат как великий алхимик, изменящий, по воле эксплуататоров, все вещи, в конце концов, по собственной воле, изменяет самого себя и только тогда возникает всё: освобождается из дореволюционной тьмы пленения подлинный облик вещей, явлений и, главное, связей между ними т.е. звучат истинные имена. "Мы наш, мы новый …" Наш язык, наше поведение, наше сознание – мы сами перестаем наконец быть чем-то темным, закрытым, отчужденным для самих себя. Мы появляемся для самих себя. "Для" отнюдь не в том буржуазном, моральном, утробном смысле, который вкладывает в этот подчинительный союз минимальный гуманизм, господствующий на капиталистической территории. Точнее было бы сказать: "Мы появляемся во имя самих себя". Это другое для, в максимально-гуманистическом смысле, речь идет о подчинении тому нашему "Я", которое дано как задание и призвано быть законом обособленных людей, например, в "Ордене Восточных Тамплиеров" Теодора Ройсса, опрометчиво "покрестившего" в эту веру склонного к эстрадным эффектам Кроули. Не нужно иметь семь академических пядей во лбу, чтобы опознать такое мировоззрение как довольно оптимистический вариант идеологии волшебной материи, (см. классификацию идеологий в сборнике Алексадра Дугина "Консерватиная Революция"). В атеистическом, лукачевском изводе этой веры изначального творца заменяет сам антропос и библейский сюжет о первотворении превращается в законсперированный план, шесть дней божьей работы как своего рода декларация о намерениях, данная человеком самому себе, в долг. Лукач многократно отказывался от своих ранних статей и от вышеназванной книги, признаваясь, опять же, к моему удовольствию, что в тот период он находился лишь внешне под впечатлением Маркса, а на самом деле испытывал более глубинное воздействие Ницше и даже Штирнера. Действительно, оригинальность и удача ранних лукачевских текстов, их решающее влияние на первое поколение авторов франкфуртской школы, состоит в том только, что изложена вышеописанная доктрина на языке марксистской интеллектуальной семьи, тогда как мы легко отыскиваем аналоги в языках других интеллектуальных семей, например, в гностических и манихейских версиях христианства . При таком сопоставлении, судьба пролетариата совпадает с судьбой праведников нового града, избранного спасителем народа, к которому и приходит Мессия во славе, ради торжества благодати во вселенной. В шиитской традиции мы можем вспомнить о небесном халифате последнего имама, той самой утопии, которая вдохновляла антиамериканскую иранскую революцию. Любой культурный человек обратит внимание на сходство с эсхатологическим зараострийским сюжетом об окончательном разделении абсолютно реального – огня, света и огненно-световых детей от абсолютного обмана и его, до поры господствующих, креатур воды и тьмы. Привлекательность раннего Лукача только в выборе языка, не употреблявшегося ранее для изложения подобного сюжета. Условие революционности текста это порой возможность лексической конверсии, удачного перевода образов и отношений одного языка в другой. Левые фрейдисты в свою очередь переводили Лукача на свою феню, Вильгельму Райху нравился пролетариат как вагинальный принцип, революционная пролетарская партия как фаллическая ипостась коллективного Андрогина и совершенная реальность коммунизма как бессмертный царствующий младенец, проекция Андрогина, в которой он зеркально отражается и видит это отражение как доказательство своей потенции. Почему же я говорю именно об анархизме (в рассматриваемом случае наблюдатели часто приплюсовывают к "анархизму" на их взгляд что-то объясняющие прилагательные, как то: правый, эволаистский, мистический, онтологический, оккультный и т.д.)? Почему анархизм, а не тот или иной марксизм, гностицизм, религиозная ортодоксия? По очень простой причине. Самым слабым и недобросовестным в избранном Лукачем мифе, является, собственно, социальный адрес субъекта. Оптимизм никогда не ведет к познанию. Пролетариат и не мог оправдать надежд. Это всегда очень заманчиво и облегчает проповедь: предположить, что та или эта группа и есть трансформаторы, кандидаты в субъекты, революционные алхимики, эмбрионы реальности – пролетарии, арии, старообрядцы, индейцы штата Чиапас, носители отрицающей систему контркультуры, члены каких-нибудь, или всех вместе, тайных организаций, праведники каких-нибудь, или всех вместе, конфессий. Такие претензии на знание адреса высказываются и будут высказываться впредь людьми, близкими мне по духу, но не по идентификации. Пережив несколько таких иллюзий, стараешься быть осторожнее. Анархизм не есть самое верное учение, но есть актуальная и по-моему ценная тавтология. На вопрос: кто является волшебным субъектом, знающим пароль проводником к абсолютному? я могу ответить только: тот, кто является. Тот, кто берет на себя эту задачу и кого хватило, чтобы ей соответствовать. Выходец из любого класса, конфессии, интеллектуальной семьи. Другой вопрос, что начавший столь рискованное движение неизбежно порывает и с классом и с конфессией и с семьей, и с прочими адресами социализации, попадая в своеобразное международное братство, интернационал несогласных и сопротивляющихся, связанных надконфессиональной, надэтнической, не вербальной конвенцией. Таким образом, анархизм исключает обреченность. Берущий на себя обязанность быть субъектом определяется, конечно, поведением, а не болтовней. Сто текстов, выступлений, семинаров доказывают вашу или мою причастность к субъекту в гораздо меньшей степени, нежели одна, вовремя и не за деньги выпущенная пуля, один взорванный памятник, один день, проведенный за дело в камере. Помимо констатации вечной вакантности исторического адреса субъекта, анархизм это еще и культ прямого действия, как единственного критерия. Помня Ницше, предлагавшего философствовать молотом, анархист философствует арматурным прутом и булыжником, философствует, бастуя, садясь на рельсы, перекрывая движение, уходя добровольцем на далекий, но необходимый ему, фронт или минируя витрину магазина, затерроризировавшего телезрителей ежеминутной рекламой, даже захватывая балкон мавзолея, чтобы вывесить там антивыборный лозунг, анархист все-таки немного философствует, понимая, что радикальная социальная практика есть единственный, доступный ему, вид практики духовной. На вопрос: кто является? анархизм тавтологично отвечает: тот, кто является. Тот, у кого хватает ностальгии по абсолюту, чтобы соответствовать требованиям, высказанным Лукачем к революционному классу, гностиками – к армии спасителя, шиитами – к людям-членам коллективного тела последнего имама. Я буду рад, если найдется новый автор, который докажет и назовет точный социальный адрес новой кандидатуры в исторические субъекты. Пока же, все коллективные кандидатуры остаются лишь благими пожеланиями к староверам, новым правым или новым левым, мусульманам, украинским пассионариям (в случае УНА-УНСО). Эти группы, гипотетически способные на многое, не оправдывают возлагаемых на них надежд, подозреваю, тут действует свой закон невыяснимости адреса т.е. ошибочности доказательного оптимизма. Революция исключает коньюктуру и поэтому проблема субъекта сопротивления переносится из исторической в чисто экзистенциальную оптику, во вневременную ситуацию, где не нужно никаких позитивных доказательств, ибо не они подтверждают субъектность. Анархизм констатирует, что для человека-объекта, пытающегося стать субъектом, добивающегося "entwerden", для опознавшегося в себе нездешнего агента, избранная социальная программа является только инструментальной, столь же условной и необязательной, как модель оружия или цвет одежды. Утопия воплощается в самом революционном акте. Утопия анархизма это действие в качестве субъекта, а любые вспомогательные программы всего лишь сопутствующие иносказания, метафоры, намёк на положение революционера, изложенный на нашем, предреволюционном, языке. Приставка пред служит в нашем случае скорее пространственному, нежели временному значению.
К чему нас призывает Пелевин? Признаюсь, я читал "Generation P" невнимательно, только так и можно его читать, иного текст не предполагает т.к. невнимательно написан, но недавно давая интервью первому телеканалу я заспорил там с журналисткой. Выслушав меня, она сказала: "Ну вот, в последнем романе Пелевина герой узнал, что все правительство сверстано в 3D, и ничего, никуда не пошел ничего громить". Меня поразила солидарность журналистки ОРТ с таким, совершенно нормальным, по ее мнению, адекватным даже, поведением героя, выяснившего виртуальность персон власти. За спинами этих сверстанных персон стоят имиджмейкеры, за спинами имиджмейкеров инфернальные сущности, сомнительные богини. Пелевин называет Иштар, но имена "богов" у него очень произвольны, сошла бы и Кали. Мне кажется, что обнаружение такого мира с неизбежностью должно вызвать желание нанести по нему удар ногой. Если персона власти, например, правительство, галлографично, во что призывает меня поверить Пелевин, значит, в отношении этих персон допустимы любые мои действия. Если они виртуальны, значит, проблема гуманизма по отношению к ним раз и навсегда снимается. Виртуальное правительство безболезненно для моральной инерции может быть подвергнуто любой участи просто в порядке шахматной партии, затеянной между кем-нибудь из людей и нечистыми духами, прячущимися, опять же, если верить Пелевину, внутри сознания имиджмейкеров. Не торопясь доверять этому писателю я предлагаю заинтересованным детективным ведомствам провести расследование на предмет соответствия описанной в романе ситуации действительному положению дел и, в случае, если таковое положение дел не подтвердится, вынести на обсуждение вопрос о запрете этого и подобных романов, развязывающих руки политическим экстремистам всех цветов и откровенно призывающих к свержению существующего у нас вот уже десять лет конституционного строя.
Генеалогия термина. Речь идет именно о генеалогии термина, я не явления. Правый, в смысле иррациональный, не политэкономический, контрпрогрессистский, анархизм напоминает мне прежде всего Георгия Чулкова и его мистическо-анархистский альманах "Факелы", в котором помимо составителя активно публиковались Вячеслав Иванов и Александр Блок. Чулков считал мистические увлечения Бакунина не менее важными для его последующей судьбы, нежели всем известное, более позднее и декоративное, увлечение Михаила Александровича левым гегельянством. В "Факелах" "эсхатологический анархизм" демонстрировался на примере "предтеч" – Владимира Соловьева с его софиологией и биографии Достоевского, которую Чулков считал более искренней, нежели литературное и, в особенности, критическое творчество писателя. Однако ни что не дает такого представления о мистико-анархистском паноптикуме начала века, как проза Чулкова. В "Валтасаровом царстве" мы находим художественную параллель между экстремальным старообрядчеством и революционной социальной практикой, плюс крайне радикальное отрицание романовского периода русской истории. Чулков, опять же отсчитывая себя от Штирнера и Ницше, предполагал необходимость конфликта мистического и эмпирического "я", в результате которого побеждает мистическое. Он считал, что неприятие эмпирического мира и неиссякаемый инстинкт его перманентного преображения сами по себе есть констатация человеком позора собственной детерминированности, признание себя объектом, продуктом, товаром, а из такого искреннего признания неизбежно следует протест, диалектическое преодоление детерминизма, пробуждение субъекта, автора, демиурга. Таким образом, само эсхатологическое, революционное мироощущение есть прежде всего форма свидетельствования о неотмирной, небытийной т.е. недетерминированной печати человеческого существа. Критикуя замкнутость левых, чисто политических, анархистов, "Факелы" предупреждали о соблазне анархизма как самоцели, предостерегали от опасности самодостаточного социального аскетизма, превращающего революционеров в сектантов и напоминали, что анархизм это только вынужденная практика, отчаянный метод, поведенческая метафора, вызванная поведенческой же, цензурой. После революции дело "Факелов" продолжал более засекреченный круг – "Орден Света" Солоневича и Никитина, разгромленный НКВД в 1930 г. Из европейских теоретиков двадцатого столетия к правым или оккультным анархистам прежде всего относил себя Теодор Ройсс, взгляды которого буквально совпадали со взглядами Чулкова. Ройсс же посвятил в этот путь левой руки, путь эксцесса (Орден Восточных Тапмлиеров) Алистера Кроули. Самого же Кроули с его "Храмом Душевной Юности" можно признать творцом самого популярного, поверхностного и провокативного извода правого анархизма. Термин "правый анархизм" мы находим в поздней книге Юлиуса Эволы "Оседлать тигра", там эта концепция прямо пересекается с фигурой "партизана", описанной Карлом Шмидтом. Оккультистом и исмаилитом был и остается культовый анархистский идеолог Хаким Бей, автор знаменитых "Передвигающихся автономных зон" и "Миллениума", а так же его близкий соратник Адам Парфри, автор онтологий "Пятый Путь" и "Культура Апокалипсиса". Любопытно, что и Теодор Ройсс и Хаким Бей в своих самых некорректных текстах все время обращаются к образу великого провокатора древности, суфия Аль-Халладжа – мистического подвижника, отрицавшего необходимость государственной и жреческой власти и зверски казненного по приказу исламских законников в Х веке. Хаким Бей посвятил его памяти несколько пронзительных и актуальных "терроростихов". Из нынешних наших соотечественников к тому же проекту можно отнести Михаила Вербитского и его электронный журнал "Ленин", пропагандирующий "онтологический" анархизм, противопоставляемый шутливо, но точно названному "палеоанархизму" предшествующих левых.
Последнее отступление. У анархизма, даже в самом привычном т.е. социальном, смысле растут перспективы в западном обществе, как и вообще у всякого радикализма. Наблюдатели связывают это с геополитическим поражением советского блока, а значит, с утратой возможности социального шантажа верхов со стороны дискриминируемых, выгодно разыгрывавших советскую карту во второй половине ушедшего века. Новая, принятая в постиндустриальном обществе контроля, система "гибкой" или "домашней" эксплуатации упраздняет многие из прежних социальных завоеваний, гарантий, велфер-стэйт, а так же существенно тормозит нежелательную для транснациональных компаний "гедонистическую" эмиграцию из третьих стран, что приводит все чаще к прямым уличным столкновениям и другим непарламентским, даже неконституционным формам выражения недовольства, в которых тамошние анархисты и им сочувствующие традиционно играют направляющую и координирующую роль. Подробно эти "глубинные", в смысле не всегда заметные для читателей популярных СМИ, процессы проанализированы в работе Карла Хайнца Ротта "Возвращение Пролетариата", изданной у нас русской секцией "Международной Ассоциации Трудящихся". По самым скромным социологическим подсчетам, число массовых беспорядков и их участников в Западной Европе увеличилось примерно втрое в сравнении с аналогичным периодом до 94-ого года (в США – вдвое). События лета 99-ого в Лондоне и декабря 99-ого в Сиэттле, спровоцированные "Глобальным Действием Людей" Криса Гримшоу и координируемые по Интернету, подтверждают вполне увесистую, как в экономическом, так и в психологическом смысле, опасность новых анархистских иннициатив для крупных мегаполисов. Те же социологи и почти в тех же пропорциях отмечают рост числа людей, практикующих альтернативные формы жизни, в той или иной степени изолируюшие участников от правил и требований глобального капитализма: всевозможные альтернативные поселения, коммуны, захваченные "сквоттерами" пустовавшие дома, "блуждающие" либертарные территории и т.д. Надо ли пояснять, какое отношение к подобным проектам всегда имели анархисты? Но помимо социо-экономических, более или менее способствующих, условий всегда остается и метафизика революционного флага, вечно актуальная притягательность этой манящей вертикали. В этом пафос неклассического, "правого", если угодно, анархизма. Этот пафос, как и все, что я сказал, как и сам флаг, совершенно не нов. Флаг означает вертикаль, а его цвет лишь зовет нас к ней. Черный предпочтительнее потому, что это цвет отказа, отсутствия, изъятия всех возможностей спектра. Одни предпочитают поддерживать эту вертикаль, другие -- за нее держатся. Оказаться в числе первых – честь, в числе вторых – спасение. Если есть метафизика у левого проекта, то она в его иррациональной анархической составляющей, без которой, коммунистическое дело вырождается в упрямое и идиотское желание сделать всех полуграмотными и полуголодными. |