| WWW.ANARH.RU |
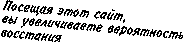
|
| WWW.ANARH.RU |
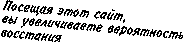
|
|
Слово, сказанное Алексеем Цветковым на презентации его книги "Сидиромов и другая проза" в галерее Марата Гельмана 5-ого сентября 99 года.
Литература как алиби или как форма дачи ложных показаний Заявленная тема, возможно, навеяна моими давними отношениями с ФСБ. Но есть и другие причины. Эта книга, выходящая в Х-серии, где уже выходили романы Дмитрия Пименова и выйдет в ближайшее время сборник Олега Абрамова, известного многим по псевдониму "Гастелло" (одно время мы вместе с ним публиковались в "Лимонке") является еще и прикрытием для следующей моей книги, которая выходит в октябре, полностью посвященной теории и практике анархизма, ее мы так же издаем с Сергеем Кудрявцевым в нашей новой серии "анархитс".И, наконец, наверное, оказала влияние на формулировку темы известная привычка Ленина, пересекая европейские границы, в графе "род занятий" писать слово "Литератор". Только самые беспокойные и зоркие из радикалов любых оттенков догадывались: революция, вопреки большинству обслуживающих ее идеологий, не есть прямой результат и внезапный выплеск эволюции. Революция является чем-то обратным эволюции, отменяющим ее итоги. Эволюция как стремление этого мира, нарциссическая мечта всего сдешнего о самом себе, тогда как революция есть вторжение в этот мир такого, у которого нет и не будет имени. Революция это место и момент разрыва. Эволюция накапливает, уточняет и готовит. Революция отбирает и отменяет. Нельзя упрощенно сказать, будто революция есть удачный вход небытия через деструкцию в наши двери. Само понятие о небытии есть всего лишь тень бытия, придающая его иллюзии объем. Само понятие деструкции есть служебное умозрение, нужное, чтобы подтверждать и делать наглядным стремление к порядку. Революция не является концом истории, но является ее временным прекращением, разрывом, не поддающимся ни дореволюционному, ни постреволюционному анализу. Тем не менее, этот разрыв - единственное, что вызывает желание разбираться в окружающей его канве, в предшествующем и последующем орнаменте. Этому посвящен завершающий мой сборник текст "После Революции". Революция это третье или, если угодно, нулевое, вмешательство по отношению к бытию и небытию, порядку и хаосу и другим ложным оппозициям. Поэтому революция не может иметь общего генезиса с оппозицией. Любое разделение (субъект-объект) перечеркивается (на обложке гилеевской серии) как иллюзия. На обложке изображен момент отказа, обнажение. Неизвестное, которое предстоит найти, чтобы родиться. Если вы согласны с этим, то с легкостью можете быть радикалом любого цвета. Ни одна из служебных иллюзий больше не пленит вас, потому что отныне между вами и иллюзией растет дистанция. Растет как пустыня. Вы опасны. Все, и в том числе литература, - только инструмент в ваших руках. В этом мораль рассказа "Победа над траблами". Все, что угнетает, подавляет, подчиняет и обрекает нас, становится возможным главным образом благодаря пережитой родовой травме. Родовая травма как первый опыт отчуждения, как предпосылка и возможность неоправданного контроля, как главный ресурс любой власти. В традиционном обществе проблема родовой травмы должна была сниматься через обряд инициации, "вторую смерть и второе рождение", через посвящение во взрослую, лишенную животного страха, жизнь. Сегодня человек, занятый собственным освобождением, сам, вслепую, устраивает себе инициацию, он может избавиться от травмы только через радикальный нонконформистский жест. Это именно то, что я хотел сказать, когда писал рассказы "Как я летел в Алжир" и "Слезы Мэрлина". Никакой патриотизм и никакая национальная общность не оправдывают эксплуатации человека человеком. Никакая государственность и избирательное шоу не могут оправдать существования наглой власти меньшинства над большинством. У всех этих, самих по себе несложных мыслей, есть одно "но". Как именно и кто именно будет определять эксплуатируемых и угнетенных? По каким лекалам отличите их, товарищи? Есть только один ответ: если человек опознает себя как эксплуатируемый, значит он таков и есть, если человек видит себя угнетенным, дискриминированным, значит, он имеет право на бунт в любой форме, к какой бы "благополучной" или, наоборот, "неустроенной" группе этот человек не принадлежал. Каждый из нас подозревает о себе правду, никто другой ее знать не может. Поэтому, каждый, пожелавший восстать, уже этим желанием оправдывает свое восстание, откликается на зов. Остальные, пусть самые разэксплуатируемые и разобездоленные, но придавленные своим положением к своему месту, ждущие улучшений извне и сводящие эти улучшения к чисто количественным, то есть относительным, показателям, виноваты в некотором смысле сами и потому не нуждаются в защите и соблюдении каких-то их эфемерных прав. Одни выбирают горизонтальное положение, другие - вертикальное, и именно этот выбор, а не экономический или социальный детерминизм, делит людей, делает их разными, неравными друг другу. Когда я писал "Сидиромова", я пытался проиллюстрировать литературными средствами возможности такого субъекта. Литература не раз хорошо показывала себя как оружие просвещения, направленное против морали, одни до сих пор видят в этом грех, а другие, едва ли не единственную заслугу литературы перед читателем. Я, как вы уже могли догадаться, отношу себя ко второй категории. Итак, революция это обнаружение того, по отношению к чему каждый всего лишь знак. На ум приходит Лакан с его объектами А, В и С. Где С это интимное Я, изнутри конструируемое каждым, В это Я, осматривающее себя снаружи - т.е. имидж, впечатление, рейтинг. Но что же тогда обозначено буквой А? Нечто в тебе, помимо тебя самого, третье по отношению к внутреннему и внешнему, это и есть агент революции, в актуализации и конспирации этого третьего, на мой взгляд, и состоит смысл искусства и литературы в частности. Таким образом, литературу можно рассматривать как временное алиби революции, как своего рода дачу ложных показаний обществу. Литература должна удачно умалчивать о главном, подробно сообщая обо всем остальном, необходимом для главного. Все более частные, известные нам, литературные приемы - метафора, сравнение, метонимия и т.д. являются ничем иным как разновидностью умолчания, этого приема приемов, уловками конспирации. Собственно, литература и отличается от пропаганды тем, что о главном она умалчивает. Автор оставляет на месте самого важного зияние, которое вы, попав в читатели, уже не можете не восполнить. Это зияние тестирует вас. Чем вы его восполняете? Отвечая на этот вопрос, любой читатель так или иначе обнаруживает свою социальную позицию, делает в конечном счете политический выбор. Желая сделать эту идею более наглядной, я написал рассказ "Или". Три лица, приведенные выше, на примере Лакана, имеют аналогию во всяком художественном тексте как портрет героя, портрет автора и, наконец, самое сложное, предсказуемый портрет читателя, неявно присутствующий как воздух в самом тексте. Пробуждение внутреннего "гостя", необходимого для революции, соответствует актуализации роли читателя в написании текста. Великий отказ, как от внешней, так и от внутренней самоидентификации, от двух масок, обращенных внутрь и наружу, осуществляется ради третьего, ради актуализации того, что есть в тебе, но что не есть "ты". Моменту исполнения этого революционного опыта посвящен текст, названный "Газ". Революция как встреча, момент обнаружения нами субъекта исторической истины. Большинство социализированных, подвергнутых символической кастрации, людей никогда по доброй воле на такое обнаружение не пойдут (для одних невыносима ответственность, для других - невыносимо возмездие). Поэтому любая, самая либертарная в своих декларациях, революция всегда остается явственно тоталитарна. Как же быть с программами, утопиями и прочими идеями, предполагающими некий постреволюционный "позитивный" план. Чтобы понять этот парадокс, вспомним, что "исполнение желания" это оксюморон и два этих, положенных рядом, слова - "исполнение" "желание" - исключают смысл друг друга. Исполнение нарциссической мечты народа, исполнение вещего сна общества о самом себе, обещанное так или иначе во всех радикальных утопиях, не имеет никакого отношения к характеру и причине самой революции, именно поэтому все большие и малые революции в истории обошлись без реализации своих программ. Здесь нет никакого поражения. Утопия является необходимым элементом, но отнюдь не является целью революции, если мы определяем революцию как вынужденное столкновение людей с субъектом социальной истины данного момента, как вмешательство в нашу реальность Другого, не поддающегося вербализации ни до ни после этого вмешательства, т.е. в полном смысле слова "бесполезного". Здесь, чтобы прояснить сей страдающий некоторой метафизичностью и пафосностью текст, я вновь отсылаю вас к рассказу "После Революции", завершающему сборник. Литература - одна из уникальных возможностей создания той самой революционной утопии, которая не является целью, но служит незаменимым элементом всякой радикальной деятельности. Ближе всего, на мой взгляд, к решению этой задачи в истекшем веке приблизились сотрудники "Сюрреалистического бюро", руководимого Бретоном. Наше же, российское общество зрелища, в котором несущей еденицей коммуникации перестанет быть слово и станет, наконец, визуальный образ, еще только формируется. Поэтому как сознательные, так и бессознательные агенты логоцентризма будут сознательно и бессознательно (у кого как получится) сопротивляться процессу тотальной визуализации. Это делает будущую революцию, поддерживаемую литературой сопротивления, в сущности консервативной, в какой бы прогрессистской лексике она себя не выражала, культ того или иного "золотого века" неизбежен. Сам феномен лексики сопротивляется обществу зрелища, т.е. обществу, в котором капитал перешел от формальной доминации к реальной, к контролю над людьми посредством воспринимаемых массами зрелищ, а не слов. Самой этой возможности посвящен цикл миниатюр с общим названием "Ошибочные действия". Предлагаемая современной критикой модель функционирования культуры как инновационного обмена сама не выдерживает критики в силу свой очевидной буржуазной ангажированности. Обмен, описанный Борисом Гройсом как универсальная операция, предполагает как минимум двух собственников, готовых вступать в рыночные отношения на тех или иных условиях, тогда как на самом деле у всего на свете, и у языка в первую очередь, есть только один собственник - народ, остальные: в лучшем случае арендаторы, а в худшем и более частом: узурпаторы общественного опыта, запечатленного в языке. Некоторые особые аспекты такой узурпации проясняются в рассказе "Закон не ошибается". Литературу и революцию перекрещивает так же некоторая априорная сенсационность революции, оправдывающая любой, связанный с ней сюжет. Автор стремится к некой высокой буквальности, пробует видеть вещи как бы впервые, забыв о связях, привычно спутывающих в общепринятой реальности все феномены и ноумены в один тяжкий неразличимый ком. Это шанс разгадать вещь и тем самым спасти ее. Такое стремление автора, если вовремя не будет заморожено коммерческими т.е. внутрикультурными интересами, неизбежно приведет его к пересечению с радикальной социальной практикой. В этом смысле, всякая революция есть попытка превратить всех читателей, потребителей, в производителей, авторов. Такой проект, конечно же, самоубийственен для искусства в его самодостаточном виде, зато он решает более важную задачу, отменяя литературу как решенную, добившуюся посредством революции своих подлинных задач (актуализации в человеке третьего, не личностного, сверхсознательного измерения). Попытке иносказательной иллюстрации такой актулизации обязан своим появлением еще один текст сборника "Дмитровский Собор".
Любой сюжет, любая композиция, берите мельче, любая метафора, используемая в контексте, решает социальный вопрос в пользу тех или иных сил. Самые отвлеченные и, на первый взгляд, далекие от общественной проблематики, тексты все равно посвящены перспективе социального освобождения т.е. преодолению отчуждения в ежедневной жизни. Эта перспектива выражает себя через художественные образы, потому что иначе, при строгом научном описании, парадокс социальной ситуации порой до конца не схватывается. Литература как алиби, как средство, помогающее (как в случае с Лениным, упомянутым в начале) легко миновать некоторые границы, которые с трудом преодолимы для политики, границы этой, в частности, галереи. В такой ситуации литература и есть политика с ослабленной внутренней и внешней цензурой.
|