| WWW.ANARH.RU |
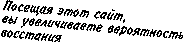
|
| WWW.ANARH.RU |
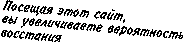
|
|
DIANA DOESN'T LIVE HERE ANYMORE Виктор Мизиано предложил мне написать для "Художественного журнала" текст о 90-х и сказал, что они уходят, это подлое время! Он прибавил, что сам пишет текст о "тусовке", которая, – он прибавил с отвращением, – стала в эти 90-е главным законодателем мод. "Не андеграунд, не богема, а именно тусовка". Виктор Мизиано, кровь от крови и плоть от плоти этих 90-х, кто видел, как они начинались, и выполнял роль акушера при их рождении, тот, кого эта "тусовка" уже давно мирно и спокойно признала своим гуру, как бы ни было ему приятно говорить о своих многочисленных врагах!Мне тоже придется признаться в связях со своим временем, но перед 90-ми у меня есть одно случайное преимущество: я не попал в них. Не только я не был принят в тусовку, но я и не мог бы в нее попасть, если даже хотел. Но были какие-то люди, которые начинали писать тексты и ходить на вернисажи в одно время со мной, и эти люди до сих пор ходят на них, поэтому я заключаю, что они, наверное, попали в эту тусовку? В 95-м я начал ходить в Центр Современного Искусства и на семинары Бренера; в 96-м я начал писать статьи и печататься в "Художественном журнале"; несколько месяцев в 97-м я писал об искусстве в "Русский Телеграф", и потом был изгнан оттуда; в 98-м я делал с Осмоловским "Радек" и перестал интересоваться искусством, я начал заниматься радикальной политикой и социологией. Осталось только несколько знакомых из этого круга и несколько художников, которые повлияли на меня так же, как литература и кино. Таким образом, я побывал в тех тусовках, которые обладали наибольшей престижностью для "подлых и продажных" 90-х, современном искусстве и журналистике. И теперь меня интересует проблема, почему они были, а я не оказался среди них? И еще: почему они умерли , а я жив и продолжаю что-то делать?Я помню ярчайшее впечатление из опыта моей собственной "карьеры": как бы ни были обаятельны молодые карьеристы в редакции "Телеграфа", газеты, которая на тот момент казалась самым молодым и обещающим событием всей политической и культурной жизни (где и вправду был очень хороший культурный отдел), их улыбки и шутки ничего не значат! Прекрасная жизнь этого мира придуманна и нереальна, так же, как придуманна реклама с ее красивыми вечномолодыми героями. Начальник отдела, знающий, что его могут уволить в любой момент, коль скоро уже наложили штраф за статью Киреева, сотрудники, каждый из которых напряженно смотрел мимо меня, когда я приходил после каждого из трех скандалов, девочки-референтки, которые знали, кому что о ком рассказать и кому принести кофе первым, а кому не принести вообще. Сердечность улыбок прямо зависела от их положения и суммы зарплаты, больше всего улыбался, конечно, начальник отдела. Это было не цинизмом, а настоящим простодушием. С таким же простодушием тупой спортивный обозреватель, который год назад, наверное, писал в провинциальной газете за рубли, улыбался и говорил: "Я люблю перекусить здесь недалеко, в японском ресторанчике" и "Да, однажды в Афинах...". Но твоя неудача, твоя неспособность вызвать приветливые улыбки здесь уже совсем не зависела от твоей коммуникабельности, на эту удачу никак нельзя было повлиять. Как громко жужжат телеграфные провода в открытом поле, такое же напряженное сосредоточеное жужжанье раздавалось все время в редакции: это были линии высокого напряжения конкуренции и интриг, которые питали, которые давали жизнь всему этому муравейнику! Но, может быть, эта замечательная жизнь разгорается где-нибудь еще, за пределами редакции, в мире простых добрых порядочных людей? Нет, если эти чисто капиталистические отношения конкуренции и иерархии существуют среди преуспевающей журналистской элиты, то нечего искать и в деградирующих, разваливающихся профессиональных сообществах. Московский художественный круг, который я застал на его последнем издыхании (уже три-четыре сезона в нем не появлялось ни одного имени), точно так же был непохож на любые красивые картинки. Можно был знать заранее, приходя на любой вернисаж, что застанешь там пьяного Сергея Епихина и неразлучную с ним Иру Кулик, громко хихикающую на его вымученные остроты. И я знал, был ли я в "Айдан" или в " XL", что мне будет не с кем разговаривать, если я не приведу с собой нескольких друзей. Я слышал краем уха их разговоры; я не только не был принят в их круг, но я и не мог бы разговаривать с ними, был бы я принят. Некоторое время мне казалось, что "XL" прогрессивней "Айдан" и "Гельмана", теперь же все кажется одинаковым. Сейчас им тридцать-сорок, но они же когда-то были молодыми! Может, их так же не принимали к себе концептуалисты? Неужели мой радикализм есть не результат моего свободного выбора, а только разницы поколений, которая будет абсолютно неважна с точки зрения отдаленной ретроспективы? Осмоловский тоже моложе их всех, и он когда-то очень сознательно поставил свой радикализм во взаимосвязь с возрастом: "Поколение убивает поколение".
Я знаю точно, я не принял идеологического решения и не выбрал одну из многих возможностей, а сделал только то, что мог сделать, когда пришел на сторону левой культуры. Просто оказалось, что я могу общаться с одними людьми и не могу с другими. 90-е годы прошли при крайне неотрефлексированной интерпретации своих участников того, что и как происходит вокруг. Это похоже на людей, рефлексирующих некоторые проблемы и делающих при этом умный вид, но рефлексирующих очень случайные проблемы. Это похоже на ситуацию, в которой много людей жили бы в пещере и были бы очень умны, обсуждали много разных вопросов бытия, в том числе и собственного бытия, но оставляли бы без рефлексии вопрос, собственно, почему они находятся в пещере, – в то время как, может быть, ответ именно на этот вопрос пролил бы свет и на все остальные, он очевидно был главным.Будучи увлечено как стилем жизни "богемной тусовки", так и теориями в духе "искусство для искусства" или постмодернистской идеологией (противоположности сближаются), московское художественное сообщество оказалось неспособно выработать никакие черты корпоративности, солидарности, социально идентифицировать себя внутри общества. 99-й год с историей Авдея Тер-Оганьяна очевидно показал это. Не только его старинный товарищ Звездочетов публично потребовал жестокого наказания за богохульство, не только дегенераты из фашиствующих "тусовок" хотели его избить, но и самый "современный" из критиков Андрей Ковалев написал подлую статью на сайте Центра Сороса: даже для этого случая он не оставил своей иронично-болтливой интонации, и, поскольку столь рафинированному постмодернисту было неудобно критиковать Тер-Оганьяна с позиций "морали", он пожурил его с позиций "интеллекта". За всем этим стоит просто страх показать обществу свою солидарность с провозглашенным аутсайдером (когда-то Осмоловский предлагал создать "профсоюз художников")! Так же рафинированные московские снобы на акциях Бренера пожимали плечами и усмехались: "глупо" и "старо", но усмехались до тех пор, пока Бренер не отбивал им яйца.Да как бы они жили без Бренера, те, кто никогда не задумывался о его вопросах и кто никогда не решался на малую долю того, на что решился он! Померли бы от скуки! О чем бы еще они могли болтать все эти годы, как обводить время вокруг пальца? Он был ньюсмейкер! Каждый из них должен ему сто баксов за развлечения! Так же и журналисты. Их история похожа на историю тред-юнионов. В чужой среде они опознавали друг друга по отличительным знакам причастности ("Да я раньше писал для Newsweek, а теперь вот...."), в своей среде они сравнивали зарплаты, сплетничали и толкали друг друга на карьерной лестнице. У них не было никаких представлений о корпоративности, хотя бы с другой столичной интеллигенцией, из которой они вышли. На днях, когда высокооплачиваемые репортеры в Думе промолчали о нашей яркой акции, стало ясно: у них ничего не осталось даже от профессиональной мифологии "свободной прессы" начала 90-х годов. Тогда же московские акционисты смогли получить высокий успех именно благодаря политике медиа-скандала, когда журналисты не обязательно сочувствовали им, но обязательно освящали любую сенсационную информацию.Конечно, с акционистами все ясно даже в отношении возраста. Я не собираюсь умалять историческое значение и личное мужество Бренера, но не он был первым. Это очевидно даже по возрасту: он на семь-восемь лет старше Пименова и Осмоловского, и он "воспользовался" их идеями. По крайней мере ясно, как далеко уходят все эти вещи. Роман "Муть" писался в 97-м году, " mailradek", еще не имея этого названия, начался в 95-м, первый "Радек" был издан в начале 94-го, и все это уходит в почти легендарное для меня время, когда Пименов с Осмоловским вместе снимали квартиру, устраивали спонтанные акции, о которых никто не знал, и писали тексты. Там были еще какие-то люди – Обухова, Зубаржук, Ревизоров, – но для меня нет сомнений, что они тоже опоздали к празднику. От того времени остались гениальный сценарий "Боже, храни президента" (лучшее произведение из 90х, которое я знаю), несколько великолепных набросков и, как надо в легендарной истории, потерянный роман-трактат "РРР". "Революционно-Репрессивный Рай". Вопрос только в том, кто же что придумал? То, на чем строятся все сильнейшие идеи этого времени – грубо говоря, кто придумал сумасшедшего разведчика? Бренер на них сделал свою историю, Кулик украл у них же главные мысли для своей двухкопеечной карьеры, Лимонов возводит к нему тексты другого сильнейшего автора, Алексея Цветкова, для Пименова этого хватает до сих пор на романы, и вот, наконец, я , Олег Киреев внезапно получил свободу, и не нужно каждый раз указывать авторство? Кто же тот гигант, которому однажды приснился сумасшедший разведчик, Пименов или Осмоловский? или они делали все хором?Естественно, то, что начинали в 1989 году делать Пименов и Осмоловский, теперь почти для всех является нормальным, признанным и почти уважаемым явлением. Если когда-то было ясно, что левое и социологическое мышление опережает свое постмодернистское время, то в контексте настоящего времени его пионеры кажутся даже старомодными. С одной стороны, это предмет для их гордости, с другой стороны – повод для разочарования. Чего же стоил радикализм, если он был не крайним экзистенциальным выбором, а объективной неспособностью говорить так же, как старшие? Что все идеологические споры были только конфликтом возрастов?Недавно я долго разговаривал с Лейдерманом, которого я всегда уважал больше, чем кого бы то ни было из поколения концептуалистов. "Что я могу сказать нового о югославской войне? – сказал он, – Только повторить то, что говорит Клинтон" Эти экстравагантно архаические взгляды! Не всякий теперь осмелился бы высказаться в поддержку Клинтона, тем более из интеллектуалов. Мы должны быть признательны этим людям за то, что враждебные взгляды эксплицированы, но, конечно, не они должны стать мишенью для атак. Они редки и более интересны, чем те, кто хранит те же самые взгляды в латентной форме, более того, чем те, кто чувствует изменяющуюся погоду и готов даже произнести теперь несколько левых фраз. Эта латентность политической позиции характерна в первую очередь для тех, кто иногда повторяет известные фразы о своей дистанцировнности от политики. Не только повторение этих общих мест выглядит глупо, но и "дистанцированное" поведение всегда проявляет себя политически в крайне реакционных формах. Чаще всего, либералы и карьеристы 90-х понимали провозглашенную "свободу" как свободу перестать вообще что-либо высказывать и иметь какое-либо мнение. Именно они, ироничные лицемеры, травили Новодворскую за то, что она вслух высказывала их собственные латентные предпочтения. Лейдерман не хотел бы оказаться в паре с Новодворской, но подобная история произошла с его фразой 95-го года "Каждый честный человек сейчас должен голосовать за Гайдара". Меня интересует факт собственного непонимания этих латентных людей. Во времена работы с "Радеком" я привык к состоянию собственной маргинальности, мне казалось, что я поставил себя в маргинальную зону общества, сделав выбор в пользу работы с "этими" людьми. Но моя маргинальность вполне может быть вызвана моим отличием по возрасту, Лейдерман и его друзья тоже сильно отличались в свое время от старших. И вот я обнаруживаю, как снова и снова я оказываюсь уже не маргинален, как мои европейские ровесники думают и делают почти то же, значит, это не заслуга моего выбора, а объективная невозможность быть таким же? Это немного обидно, но социология всегда учила отказываться от представлений о "личности" и "свободе выбора". Как же сделать теперь так, чтобы опередить еще и собственное поколение? Еще раз становится очевидно, что никто никогда ничего не решает самостоятельно. Можно пока что сказать о тех, кто даже не претендовал на совершение такого выбора. Это, например, те, кто начинал вместе со мной. В 20 лет каждым из нас успех оценивался как вхождение в заранее существующие институции (газеты, журналы, галереи, тусовки). Если я не смог туда войти, то это моя личная история. Но Коля Малинин получал большие зарплаты в глянцевых журналах, Миша Сидлин надолго закрепился в "Независимой", имя Лени Лернера выставлено на сайте Гельмана рядом с Деготь и Рыклиным. Мои поздравления. Эти люди попали во взрослую культуру, они интегрировались в чужие институции, созданные не своим поколением. Они даже не попытались разыграть карту "молодых и наглых" внутри этой чужой культуры, они настаивали, что они "такие же". Что им придется сделать чуть позже, когда старшие будут уходить со сцены? Преждевременно постаревшие, они не будут иметь возможности изменяться и приобретать собственное молодое лицо, удобные для этого драгоценные несколько лет прошли. Интегранты! Они думали, что надо поскорее успеть за историей, и не знали, что она изменится скоро так, как никто из них не мог и предполагать, они просто сделали нестратегический выбор.Именно поэтому нелепа любая забота о репрезентации, о представлении себя перед аудиторией. Репрезентация предполагает, что мы знаем нечто о публике и знаем, как понравиться этой публике. Но мы ничего не знаем ни о чем, и тем более не знаем, как изменятся реальность и публика через несколько лет. Только незнание и непонимание придают силу и решительность. Поэтому единственный выбор, единственная возможность – это действовать с максимальной силой самоотдачи. Оригинального и нового не существует. В это время, не думая о последствиях и репрезентации, в Москве существовали, действовали и развивались другие феномены искусства и политики, не вошедшие в галерейно-вернисажную "тусовку". Никакие Епихин, Деготь и Балашов не знали, что существуют группы зАиБИ и ДвУРАК, авторы талантливейших и радикальных работ, реально новых способов творчества и проживания. Они не знали, что акции круче Криса Бердена делал странный человек Коля Винник (раздавая все свое имущество или подвергая себя публичному самоистязанию). Они никогда не узнают, что такое современная музыка, которую делают настоящие авангардные группы ("Рабочий контроль", "Лисичкин хлеб"), что за тексты пишут Пименов, Цветков, Минлос, Давыдов. И, конечно же, никто не знал, какую политическую роль играют эти люди, как существует внутри политики идеология постмодернизма, и как политически может измениться их собственное искусство, если изменится общая зона политики. Вместо этого проще было писать безответственную хуйню, как Балашов: "Смерть крайне невизуальна и в то же время предельно визуализирована".Кто в 89-м мог подумать, что все станет таким, как есть? Не следует ждать никакой фантастики в духе Апокалипсиса или мировой войны (лейтмотив прогнозов и предсказаний), но надо почувствовать, насколько фантастичен сам факт изменений. Надо почувствовать анонимность, неавторизованность, неописуемость изменений, и событий, и истории. Ирония, распространяемая идеологией постмодернизма, есть не универсальное интеллектуальное оружие, она есть средство защиты от сложных вопросов. Любой из них может быть назван "старым", любой, самый радикальный, жест, может быть амортизирован словом "неинтересно". Так поступают обыватели, берегущие свои нежные нервы от непонятных впечатлений. Я верю, что когда-то (для Ролана Барта) ирония была радикальным политическим оружием, ее можно было назвать "релятивизацией с помощью языка", но сейчас таким оружием хочет пользоваться любая студентка. Необходимо презрительно хихикать (как Ира Кулик), чтобы в конце 90-х быть принятым в приличное общество, будь это прогрессивная галерея или ночной клуб.Это прием релятивизации, как его употребляют художники и философы. Социологи думают о другой релятивизации. Это историческая релятивизация, о ней писал Пьер Бурдье (которого русские 90-е не читали, хоть он и сверстник, и даже школьный товарищ Деррида). И пока пожилые хихикают, история меняется; нам следует смотреть на эти изменения с точки зрения исторической релятивизации, а ей более подходит серьезная и суровая интонация. Пьер Бурдье: Крайнее неравенство, которое философия устанавливает в своих отношениях с социальными науками, приносит ей, среди прочих выгод, неотразимое средство скрыть то, что она берет от них и присваивает. На самом деле, мне кажется, что философия, окрещенная пост-модернистской, попросту присваивает в форме отрицания (то, что Фрейд называл Verneinung) не только определенные достижения социальных наук, но и историцистскую философию, которая, эксплицитно или имплицитно, содержится в практике этих наук. Эта замаскированная аппроприация, легитимизированная отрицанием заимствования, является одной из наиболее мощных стратегий, до сих применявшихся философией против социальных наук и той угрозы в виде релятивизации, которую эти науки для нее представляют. ОЛЕГ КИРЕЕВ |